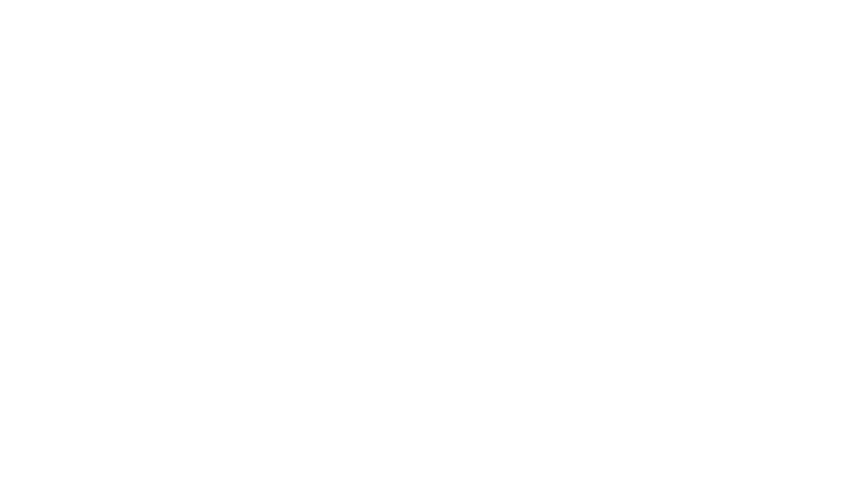Из беседы с Еленой Гусевой: как рос
проект «Быть здесь»
проект «Быть здесь»
В феврале 2025 года Екатерина Гусева, в процессе подготовки книги «Ленд-арт в России: хронология событий», обратилась за небольшим комментарием о проекте «Быть здесь». Начав собирать архивную информацию о процессе работы, я поняла, что текст получается несколько больше. В итоговую главу «Настоящее время. Арт-парки, фестивали. 2010−2025», конечно, вошло не все. Остальное сохранено здесь.
Все фотографии в статье авторства Александры Птицы, если не указано иное
Все фотографии в статье авторства Александры Птицы, если не указано иное
Вы куратор сайт-специфик проекта на границе города и леса «Быть здесь» — как этот проект появился? Как был придуман? Расскажите о самом начале, первых шагах.
Идея сделать художественное высказывание в залах законсервированного бетонного строения на въезде в поселок «Южные Горки» возникла еще осенью 2023, когда мы, тогда студенты первого курса Института современного искусства Иосифа Бакштейна, знакомились и строили планы. Зимой Вера Ершова, воодушевленная поддержкой Дмитрия Гутова, Ильмиры Болотян, предложила сокурировать проект (тогда без названия). Нужно было проработать общий концепт и посыл, название, провести отбор работ и так далее. У проекта к тому же была конкретная задача привлечь внимание к проблеме застройки Подмосковья, к загрязнению реки Туровки. Однако мы — художники, нам не нужно было спешить на надувных лодках перед китобоями. Эти
Идея сделать художественное высказывание в залах законсервированного бетонного строения на въезде в поселок «Южные Горки» возникла еще осенью 2023, когда мы, тогда студенты первого курса Института современного искусства Иосифа Бакштейна, знакомились и строили планы. Зимой Вера Ершова, воодушевленная поддержкой Дмитрия Гутова, Ильмиры Болотян, предложила сокурировать проект (тогда без названия). Нужно было проработать общий концепт и посыл, название, провести отбор работ и так далее. У проекта к тому же была конкретная задача привлечь внимание к проблеме застройки Подмосковья, к загрязнению реки Туровки. Однако мы — художники, нам не нужно было спешить на надувных лодках перед китобоями. Эти
решения, при всей их героичности, не наши. Как сделать проект, чтобы он был художественным, а не новостно-экологическим?
Первые шаги были довольно «в студенческой традиции» — сделать выставку и серию перформативных высказываний, устроить (по согласованию, конечно) реэнактмент акции «Здесь так же, как везде» группы «Коллективные действия», а также отметить 50-ю годовщину Бульдозерной выставки. Или, учитывая, что у нас в качестве одной из площадок были «Горки Ленинские», мы хотели рассмотреть и образ самого Ильича. Он давно перестал нести в себе черты реального политика. «Ленин — это точка на карте, точка во времени, направление к центру почти любого города» (такие слова были в одном из множество проработок концепции). «"Здесь был я" как факт признания наличия себя. "Здесь был Ленин" как факт сакрализации местности, дарование ему места в пространстве и истории». Конечно, от этой идеи я потом отказалась.
Первые шаги были довольно «в студенческой традиции» — сделать выставку и серию перформативных высказываний, устроить (по согласованию, конечно) реэнактмент акции «Здесь так же, как везде» группы «Коллективные действия», а также отметить 50-ю годовщину Бульдозерной выставки. Или, учитывая, что у нас в качестве одной из площадок были «Горки Ленинские», мы хотели рассмотреть и образ самого Ильича. Он давно перестал нести в себе черты реального политика. «Ленин — это точка на карте, точка во времени, направление к центру почти любого города» (такие слова были в одном из множество проработок концепции). «"Здесь был я" как факт признания наличия себя. "Здесь был Ленин" как факт сакрализации местности, дарование ему места в пространстве и истории». Конечно, от этой идеи я потом отказалась.
На этом уровне очень помогло обучение в ИСИ ИБ. У нас был экспертный совет, в который входил ректор Института Станислав Шурипа, с которым мы обсуждали концепт, но даже каждые лекция и беседа с преподавателями по темам, далеким от проекта, помогали взглянуть на него под другим углом и выявить уязвимости. Например, вместо того, чтобы говорить о том важном, что было, нужно вести диалог с тем, что происходит здесь и сейчас. Что вместо буквализма можно обратиться к тем категориям, понятиям, феноменам, которые изучали КД, и эти понятия разыграть или упомянуть в работах других художников. Библиотека «Гаража», множество зарубежных онлайн-библиотек дали возможность увидеть главную черту — край (на краю), смещение, ускользание.
Снова началась работа. Для меня было важно удалить лишние смыслы, сделать одну точку притяжения. Дефиниции края — относительно отношений городского и природного (так в конце концов была зафиксирована фраза «на границе города и леса»). Я начала переписывать текст концепции, обращаясь мысленно к работам Олафура Элиассона, точнее, к его «Зеленой реке», проекту, который подразумевал зрительское соавторство. Тогда я поняла, что важным будет дать увидеть зрителям наше пространство и его окружение первым взглядом путешественника, изменить часть повседневности и выделить ее так, чтобы она перестала быть фоном (об этом на проекте был мой видеоарт «Не было»). Именно так мы решим нашу конкретную задачу — потребительское отношение строится на том, что человек что-то не воспринимает. Мы делаем это пространство заметным. Уже нельзя превратить его обратно в пустоту, с которой неважно что происходит. На многие мысли, после вошедшие в концепт, навела книга Мишеля Серра «Девочка с пальчик».
(слева — Green river, 1998, Stockholm, 2000 — 1998. Photo: Olafur Eliasson)
(слева — Green river, 1998, Stockholm, 2000 — 1998. Photo: Olafur Eliasson)
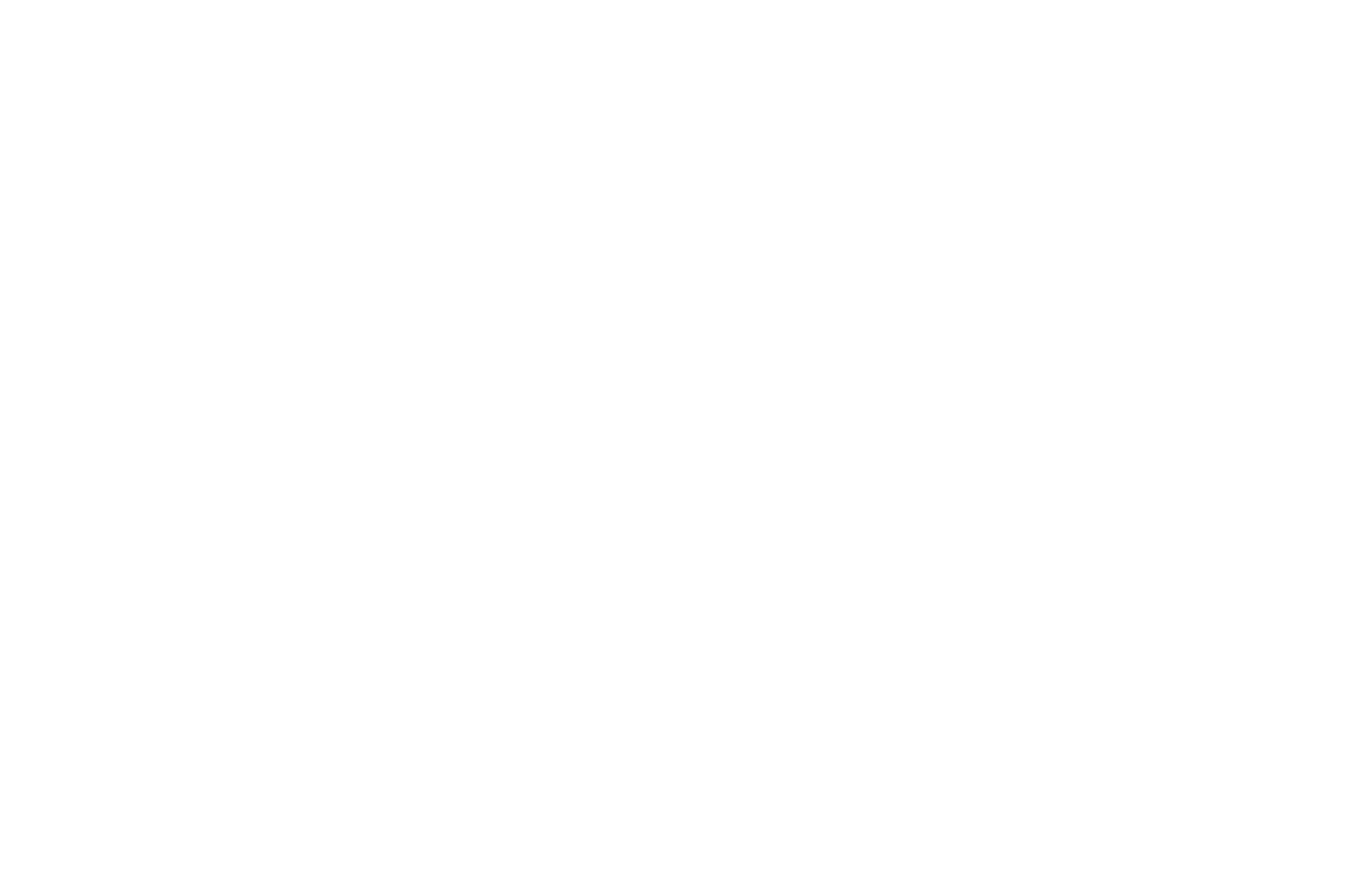
Дальше мне хотелось воссоздать соседство. Обновить связи внутри самого района, между людьми, дать им возможность иначе взглянуть на то, что их окружает (здесь, конечно, вспоминался Streamside day Пьера Юига). Дело в том, что граница тесно связана с соседством, временем и единством. Общность — это не столько отсутствие границ, сколько единое поле внутри таковых. Мы соседи, когда между нами есть пространство, и в то же время мы отгорожены единой линией.
В какой-то момент возникло понятие фронтира, тесно связанное с такими крупными событиями истории, как эпоха Великих географических открытий и покорение Нового Света. Фронтир — это возможность сохранять так называемое «здравомыслие» общества. Считается, что на этапе освоения космоса понимание фронтира исчезло — нет границ, куда можно сбежать тем, кто слишком не похож на общепринятое мнение о допустимом. Но это не так. Он просто сменил географию.
В какой-то момент возникло понятие фронтира, тесно связанное с такими крупными событиями истории, как эпоха Великих географических открытий и покорение Нового Света. Фронтир — это возможность сохранять так называемое «здравомыслие» общества. Считается, что на этапе освоения космоса понимание фронтира исчезло — нет границ, куда можно сбежать тем, кто слишком не похож на общепринятое мнение о допустимом. Но это не так. Он просто сменил географию.
Если посмотреть на существование неофициального искусства в СССР после выставки МОСХ в 1962 году, то это как раз — жизнь людей в приграничье. Однако от этой идеи я тоже отказалась после комментариев Виктора Мизиано, что, несмотря на глубину смыслов, «фронтир» — понятие колониальное, и соседство уже приобретает оттенок противостояния («мы» и «они»), который нам был не нужен.
Это лишь несколько из крупных поворотов работы над концептом. Трудиться было невероятно интересно и захватывающе, а помощь экспертного совета и преподавателей ИСИ ИБ лишь улучшала фокус взгляда.
Это лишь несколько из крупных поворотов работы над концептом. Трудиться было невероятно интересно и захватывающе, а помощь экспертного совета и преподавателей ИСИ ИБ лишь улучшала фокус взгляда.
Был ли некий референс? ориентировались ли вы на другой проект? и были ли подобные проекты — арт-фестивали в России?
Строго говоря, у нас не «фестиваль». У нас не было конкуренции и оценок. Это групповое высказывание. Множество голосов. Возможно, именно эти особенности — участники и тема — отличают проект «Быть здесь» от других.
В пору работы над концептом мы, конечно, обращали внимание на работы других художников. Выделили несколько, единой чертой, объединяющей их, были общность, соседство, зритель как участник.
Павел Альтхамер, который с 2009 года занимается социальной скульптурой. В 2009 году он начал сотрудничество с собственными соседями по проекту «Общее дело». Во время 7-й Берлинской биеннале (2012) инициировал «Конгресс карикатуристов», целью которого было побудить посетителей взять в руки карандаши и рисовать на стенах пустой церкви Св. Элизабет в Берлине. На 55-й
Строго говоря, у нас не «фестиваль». У нас не было конкуренции и оценок. Это групповое высказывание. Множество голосов. Возможно, именно эти особенности — участники и тема — отличают проект «Быть здесь» от других.
В пору работы над концептом мы, конечно, обращали внимание на работы других художников. Выделили несколько, единой чертой, объединяющей их, были общность, соседство, зритель как участник.
Павел Альтхамер, который с 2009 года занимается социальной скульптурой. В 2009 году он начал сотрудничество с собственными соседями по проекту «Общее дело». Во время 7-й Берлинской биеннале (2012) инициировал «Конгресс карикатуристов», целью которого было побудить посетителей взять в руки карандаши и рисовать на стенах пустой церкви Св. Элизабет в Берлине. На 55-й
Венецианской биеннале (2013) были представлены скульптуры «душ» венецианцев. Альтхамер несколько месяцев создавал слепки лиц венецианцев — банкиров, владельцев магазинов, рабочих-иммигрантов, — которых он встретил на улицах города.
Отблески его подхода видны в мероприятиях параллельной программы.
Каролин Йорт и Риитта Иконен, проект «Глаза, как блюдца» в рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2021», МАММ. Источником вдохновения послужило изучение фольклора и свойственной ему персонификации природных явлений. Главной темой стал человек современной эпохи и те связи, которые он устанавливает с природой. Люди, которых фотографируют Каролин и Риитта, являются полноправными соавторами проекта. Каждая фотография сопровождалась рассказом человека о себе.
Этот проект был в презентации «Быть здесь», которая сопровождала опен-колл. Не думаю, что кто-то намеренно вел с ним диалог, но его общее настроение и внимание
Отблески его подхода видны в мероприятиях параллельной программы.
Каролин Йорт и Риитта Иконен, проект «Глаза, как блюдца» в рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2021», МАММ. Источником вдохновения послужило изучение фольклора и свойственной ему персонификации природных явлений. Главной темой стал человек современной эпохи и те связи, которые он устанавливает с природой. Люди, которых фотографируют Каролин и Риитта, являются полноправными соавторами проекта. Каждая фотография сопровождалась рассказом человека о себе.
Этот проект был в презентации «Быть здесь», которая сопровождала опен-колл. Не думаю, что кто-то намеренно вел с ним диалог, но его общее настроение и внимание
к самому пространству представления можно увидеть, например, в лесных работах Полины Крутовой.
Основным вдохновением на первом этапе работы над концептом, а также мечтой на будущее была ферма Salmon Creek, о которой я узнала из постов куратора Клауса Бизенбаха. Это заповедник лесов красного дерева, основанный как контркультурная коммуна в 1971 году на месте старинного места золотоискателей, а теперь долгосрочный проект живого искусства, созданный многими руками. Своего рода странная коммуна-ферма-усадьба, предлагая время от времени ретриты, семинары и стипендии некоммерческой организации Salmon Creek Arts. Мы планировали на самых первых этапах, что с помощью «Горок» можно будет создать такое же пространство общения художников, восстановления внимания к природному. Возможно, это все еще сбудется. Но многое в этом проекте зернами проросло в концепте.
Основным вдохновением на первом этапе работы над концептом, а также мечтой на будущее была ферма Salmon Creek, о которой я узнала из постов куратора Клауса Бизенбаха. Это заповедник лесов красного дерева, основанный как контркультурная коммуна в 1971 году на месте старинного места золотоискателей, а теперь долгосрочный проект живого искусства, созданный многими руками. Своего рода странная коммуна-ферма-усадьба, предлагая время от времени ретриты, семинары и стипендии некоммерческой организации Salmon Creek Arts. Мы планировали на самых первых этапах, что с помощью «Горок» можно будет создать такое же пространство общения художников, восстановления внимания к природному. Возможно, это все еще сбудется. Но многое в этом проекте зернами проросло в концепте.
У проекта несколько локаций, в том числе лес. Кроме того многие художники для создания своих работ использовали природные материалы. Допустимо ли сформулировать проект как в большей степени ленд-арт? Как авторы создавали объект? это исключительно сайт-специфичность? привязка к месту? или была общая заданная тема для размышлений?
Да, я думаю, что относительно большинства работ, представленных в "«Быть здесь», можно назвать ленд-артом. Яркими примерами могут быть «Жилец» и «Жилище» (Danil Danot), «Imprint» Оксаны Виноградовой, «Переводимость» Анастасии Мячиной, «Пантон» и "Теплообмен" Анны Салимязновой, «Соблазн» Саши Сорокиной, «Поиск корней», «Званый ужин», «Ложка к обеду», «Сто лет одиночества» и "Функциональная случайность" Полины Крутовой, «Адаптация VI. Березовый мир» Светланы Калашниковой, «Воздушные перспективы: инквилинизм», мутуализм, симбиоз" Юлии Парфеновой и иные. Было важно, чтобы работа художников не наносила вреда окружающему. Между эффектностью и безопасностью, экспансией и деликатностью мы выбирали последнее.
Да, я думаю, что относительно большинства работ, представленных в "«Быть здесь», можно назвать ленд-артом. Яркими примерами могут быть «Жилец» и «Жилище» (Danil Danot), «Imprint» Оксаны Виноградовой, «Переводимость» Анастасии Мячиной, «Пантон» и "Теплообмен" Анны Салимязновой, «Соблазн» Саши Сорокиной, «Поиск корней», «Званый ужин», «Ложка к обеду», «Сто лет одиночества» и "Функциональная случайность" Полины Крутовой, «Адаптация VI. Березовый мир» Светланы Калашниковой, «Воздушные перспективы: инквилинизм», мутуализм, симбиоз" Юлии Парфеновой и иные. Было важно, чтобы работа художников не наносила вреда окружающему. Между эффектностью и безопасностью, экспансией и деликатностью мы выбирали последнее.
Когда проводился опен-колл, всем были предоставляли материалы об истории места — курганы вятичей, история Зинаиды Морозовой, а также отражающие современное положение дел (в диалоге с данными экологов вырос, например, проект Полины Крутовой «Муравейник», с конкретной задачей — «Путь реки» Оксаны Виноградовой). Некоторые высказывания изменились с разговорах, в посещении площадки (как пример — цвет панелей у Алены Троицкой стал зеленым, когда она приехала впервые на площадку, она была поражена насыщенным настоящим зеленым светом в здании).
Кроме того, так или иначе все эти работы вместе с нами изучают тему, заданную в концепте: «Что происходит в этой приграничной, почти "сумеречной", зоне? Точкой встречи каких сил становится этот бетонный куб? Форпостом чьей стороны? Выступает ли он как пространство взаимопроникновения человеческого и нечеловеческого, местом поиска новых форм со-бытия или, наоборот, это эпицентр противостояния? <…> Мы оказываемся на краю отношений рукотворного и природного в иллюзорном, но в то же
Кроме того, так или иначе все эти работы вместе с нами изучают тему, заданную в концепте: «Что происходит в этой приграничной, почти "сумеречной", зоне? Точкой встречи каких сил становится этот бетонный куб? Форпостом чьей стороны? Выступает ли он как пространство взаимопроникновения человеческого и нечеловеческого, местом поиска новых форм со-бытия или, наоборот, это эпицентр противостояния? <…> Мы оказываемся на краю отношений рукотворного и природного в иллюзорном, но в то же
время очень конкретном пространстве. Что для нас означает "быть здесь"?»
Я глубоко восхищена нашими художниками. Во-первых, масштаб и сроки. Например, работа Павла Зуданова «Темные структуры», покорившая буквально всех, — труд создать ее был колоссален и может сравниться только с монтажом/демонтажом. Те из авторов, кто работал в лесу, порой напоминал пчеловодов на пасеке, поскольку жизнь насекомых там была очень активной. Кроме того, до того, как для посетителей были протоптаны тропинки, найтись в этом совершенно неприрученной зеленой реке деревьев было непросто. Сам факт сделать работы для проекта так быстро, с учетом всех уточнений, модификаций, это невероятно. Я горжусь всеми нашими участниками.
Я глубоко восхищена нашими художниками. Во-первых, масштаб и сроки. Например, работа Павла Зуданова «Темные структуры», покорившая буквально всех, — труд создать ее был колоссален и может сравниться только с монтажом/демонтажом. Те из авторов, кто работал в лесу, порой напоминал пчеловодов на пасеке, поскольку жизнь насекомых там была очень активной. Кроме того, до того, как для посетителей были протоптаны тропинки, найтись в этом совершенно неприрученной зеленой реке деревьев было непросто. Сам факт сделать работы для проекта так быстро, с учетом всех уточнений, модификаций, это невероятно. Я горжусь всеми нашими участниками.